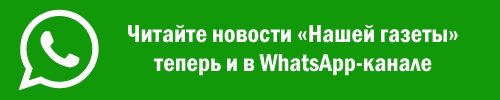Юрий БОНДАРЕНКО: Бояться ли нам искусственного интеллекта?
Телепрограмма «Точка зрения» Евгения Шибаршина привлекает меня своими встречами с интересными людьми, которые становятся и твоими собеседниками. А умный собеседник (наверное, так же, как и педагог) - не просто тот, кто вкладывает в тебя знания и свои умные мысли, а прежде всего тот, кто побуждает тебя мыслить самому. Таким побуждением к соразмышлениям стала для меня и встреча с Арсением Великородом, посвященная проблемам искусственного интеллекта (ИИ).

Если уж сразу с места в карьер, то думаю, что на сегодня скорее уместно опасаться не «вочеловечивания» искусственного интеллекта, а обратного – роботизации и примитивизации человеческого интеллекта, сопряженной с обеднением языка и сужением диапазона тех видов деятельности, которые свойственны миллионам наших современников. Впрочем, последнее встречалось не раз на протяжении всей человеческой истории.
Что же касается собственно ИИ, то, признавая его незаменимую служебную роль – столь же незаменимую, как и роль массы механизмов, уместно вспомнить и о новых проблемах. Арсений тонко подметил, что сегодняшний ИИ не способен охватывать и учитывать многоцветие и нюансы слов, о каких бы языках ни шла речь. И вот тут-то, возможно, в очередной раз изобретая велосипед, я задумался неожиданно для самого себя. Ведь и мы, люди, входя в миры гаджетов, в силу в том числе и чисто технических причин, погружаемся в сферу упрощаемой лексики и более того – замены лексических единиц устойчиво-штампованными символами и образами: смайликами и прочим.
Если стационарный компьютер и ноутбук еще «терпит» привычную для нас, сплошь и рядом удлиненную и насыщенную нюансами письменную речь, то гаджет требует сравнительного лаконизма.
А это уже – речевая революция, связанная и с определенной трансформацией мышления.
И даже с его обеднением?
Я лично сохранил бы, как рабочее, это понятие «речевая революция», добавив только, что любая революция, включаю и таковую, не только обретение, но и утрата. Так было и во Франции, и в России и во многих иных местах.
Однако, если сконцентрироваться на человеческой речи, то тут, как мне кажется, мы погружаемся в мир, по крайней мере, второй речевой революции.
А какую же тогда можно было бы отнести к первой? Ответ на поверхности. Это появление письменной речи, принесшей с собой неисчислимые блага, но… Речи, которая в вербальной или иной знаковой форме оказывалась долгое–долгое время несравненно более бедной по возможностям выражения переживаний, нюансировки информационных потоков, чем речь устная. Так что можно было бы предположить, что то, с чем мы сегодня сталкиваемся, явление стадиальное. Тем более, что, начиная с незапамятных времен, и устная речь зачастую тяготела к лаконизмам и сплавам с языком жестов и поз. Вспомним индейцев и спартанцев, даровавших нам само слово «лаконизм», означающее точное и сжатое выражение своих мыслей, потребностей и пожеланий. Уже в знаменитом материнском напутствии «Со щитом или на щите» - целая философия жизни и смерти.
И все же в современной «второй речевой революции», как мне кажется, просматривается нечто специфическое и при этом тревожное.
В прошлом языки символов и сжатых, словно пружины, слов и фраз были языками, враставшими в миры Живой Природы, являлись своеобразными нитями, связывающими человека с нею.
Сегодня же роль гаджетного общения с миром, по крайне мере, двойственна. С одной стороны, невероятно расширяются наши возможности общения с теми, кого нет рядом, включая и сугубо деловые, научные контакты. Но с другой – со все более раннего детства гаджетные игры и т. д., и т. п. становятся и стенами, отделяющими индивида и от мира живой природы, и от мира живого человеческого общения, сопряженного не только с разговорами с осязаемым собеседником, но и с движением, спортом.
Так рождается новый вид психологической зависимости, который по своей значимости становится в один ряд с наркоманией, алкоголизмом и не только. А это уже социальные и психологические проблемы, в которых собственно искусственный интеллект неповинен.
Автор - кандидат философских наук
Последние новости