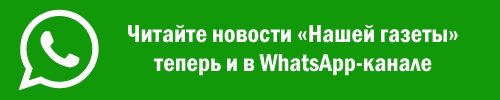Мы стали старше. Финансово и политически - Закон о трансфертах приняли в Казахстане. Говорим с одним из его авторов
Игорь НИДЕРЕР
«Раздельный бюджет? Но представьте, вот живет семья: все деньги папа с мамой складывают в общий кошелек, а потом распределяют - это на коммуналку, это на питание и т. д. А сейчас как будет, все врозь? А дети?» - «Я вам нарисую другую картинку: раньше деньгами на несколько родственных семей ведал дед. И он каждый раз решал: сегодня мы хором помогаем этому нашему дяде, а завтра - другому. А этот дядя, быть может, тихо сидит и ничего не просит. А тот, кто больше всех вкалывает, остается с копейками. Но отныне будет по-другому: как раз папа с мамой все и решают. А их деньги ближе к семье, ближе к детям».
Не экономика, а прямо сказание какое-то. Такой диалог состоялся у нас с депутатом мажилиса Парламента Еркином АБИЛЕМ.

Еркин Абиль обещал избирателям бюджетную и управленческую самостоятельность регионов / Фото Игоря НИДЕРЕРА
И речь шла не о родственных обычаях, а о распределении республиканского бюджета по новому Бюджетному кодексу и закону о трансфертах. Но, чтобы не прослыть сказочником, Еркин Аманжолович расписал вопрос подробно и конкретно.
Перевернутая пирамида
- В прошлом году в Казахстане был принят новый Бюджетный кодекс, а теперь - закон о трансфертах общего характера на 2026-2028 годы. Вы приняли непосредственное участие в подготовке обоих документов. Что меняет последний закон о трансфертах? Зачем вообще передавать бюджет из центра в регионы?
- Выполнен первый и основной пункт моей предвыборной программы. Два с лишним года назад я обещал избирателям добиться бюджетной и управленческой самостоятельности регионов. Отвечая на ваш вопрос, замечу, что в экономике устойчивой считается такая система, в которой как можно больше власти и как можно больше денег находятся в наиболее низовых уровнях управления.
- Почему? Ведь, казалось бы, когда все в центре, оно и крепче.
- Вот как раз нет. Даже физически это перевернутая пирамида, если все в центре. У нас очень долго система функционировала именно так: практически все, что можно, за исключением небольших сборов, штрафов и так далее, консолидировалось в республиканском бюджете, а потом сверху раздавалось обратно в регионы.
И буквально до последнего времени у нас ситуация следующая была. Представьте, обычно адекватный районный аким хотя бы раз в месяц бывает в каком-нибудь ауле. И вот аксакалы ему при встрече заявляют: «Нам бы хорошо кусок дороги от трассы до аула заасфальтировать, там 5 км всего-то». Аким отвечает: «Дело говорите, я сам только что ехал и весь джип испачкался». Этот районный аким заказывает проектно-сметную документацию и идет к областному акиму: «Хорошо бы заасфальтировать». Областной звонит депутатам мажилиса: «Пробейте, пожалуйста, при утверждении бюджета!» Те отвечают: «Денег нет, но вы держитесь. Давайте мы на следующий год при перераспределении попробуем включить вашу заявку в бюджет». Деньги не появляются, на следующий год районный аким вновь появляется в злополучном ауле, а аксакалы смотрят на него с укоризной: «Мы просим, а ничего не меняется…»
Теперь таких историй возникать не должно: все местные проекты утверждаются на уровне областного маслихата. Ведь кому проще определить приоритетность прокладки 5-километровой дороги: депутату областного маслихата или вице-министру национальной экономики, вице-министру финансов с мажилисом вкупе?
- То есть налоги собирались в регионах, передавались в центр, а потом возвращались обратно?
- Да, а центр эти же финансовые потоки и распределял. Главы регионов здесь зависели от правительства, что было этаким политическим пунктиком. Ниже - то же самое: районные бюджеты зависели от областного. А политика здесь вот в чем: в условном «центре принятия решений» определяли: «Этот аким хорошо работает, да ведь? Дадим ему на регион денег? А вон тот себя не ахти как показал, а этот и вовсе проштрафился. Соответственно, их области получат меньше». И у нас фактически получалось так. Лучшее финансирование на регион имели те акимы, у которых обнаруживались некие входы-выходы в правительстве: этот может напрямую к премьеру обратиться, а тот - к министру финансов.
- Но это ли не есть потайная дверь для коррупции?
- В какой-то степени да, потому что деньги распределялись с помощью неформальных отношений и связей. Это было еще как-то простительно, когда требовалась максимальная концентрация власти. Вспомним первые годы независимости, когда существовала угроза того, что Казахстан вообще может развалиться. Тогда действительно нужно было все максимально централизовать. Но прошло время, и теперь мы осознаем, что такая система весьма неустойчива. Социологи подтверждают, что чем больше власти и денег внизу, тем стабильнее и надежнее вся структура.
Это уже перебор!
- Но можно привести два довода против. Во-первых, передача налоговых сборов на уровень областей развивает местечковость и лоббирует локальные элиты. Во-вторых, известно ведь, что регионы нашей страны развиваются неравномерно…
- Во втором аргументе есть очень интересный нюанс, и мы к нему вернемся. Но давайте по первому.
При централизованном сборе налогов и последующем их распределении по местам мы наблюдаем, помимо гипертрофированной зависимости от центра, еще и отчуждение населения от власти. У нас простой гражданин не чувствует причастности к этой самой власти. Он ей не верит, потому что никак не участвует в управлении. Поэтому и была поставлена задача довести как можно больше денег до регионального уровня. Причем не просто на местный, то есть областной уровень - у нас же налоги спущены на районный бюджет!
И мы сейчас видим, что они платятся в то место, где малый-средний бизнес и работает. И именно за последние 3 года местные бюджеты, областные бюджеты демонстрируют очень хороший прирост. Мы все время жалуемся на бюджетный дефицит, но он только республиканский, а местные бюджеты показывают ежегодный профицит. То есть они собирают больше налогов, чем запланировано даже с учетом ежегодного увеличения. Сверх плана в большинстве регионов минимум десятипроцентный рост. В разных областях процессы идут несколько различно, но стабильный прирост, повторю, почти везде. Исключение - Алматинская область, где предполагались налоговые поступления от игорного бизнеса, но что-то пошло не так, и план не выполнен. И если в целом суммировать перевыполнение, это по местным бюджетам 1,5-2 трлн тенге ежегодно.
И тенденция продолжится, потому что с 1 января налоги переданы еще и на районный уровень. С начала 2026 года эти доходы должны вырасти еще на 10-15%. Таким образом, к 2028 году зависимость регионов от республиканского бюджета должна снизиться с 56% до 33%.
Верхи могут, низы очень хотят
- И все же, каким образом передача налогов на нижестоящие уровни усилит доверие к местной власти?

От принципиальности маслихатов теперь зависит развитие регионов и рост благосостояния / Фото Игоря НИДЕРЕРА
- Тут простая связь. Скажем, работает у нас некое местное предприятие. И каждый вправе задаться вопросом: мы налоги-то заплатили и они в местный бюджет пошли. А на что? Аким, расскажи, где наши денежки?
И теперь перед представительными органами власти стоит задача: придать ревизионным комиссиям районных и областных маслихатов реальный рабочий статус. То есть известно, допустим, что в прошлом году на местом уровне насобирали на 10 млрд больше налогов, чем стояло в планах. Так теперь поясните нам, куда распределили эти излишки. На благоустройство? А почему? Ведь у нас еще водовод не достроен, а тут школы не хватает, а здесь бы хорошо садик построить, например. Соответственно, распределение денег приближается к простому человеку.
Впрочем, свою депутатскую задачу по выработке эффективного механизма перевода бюджета на локальные уровни я выполнил не до конца, потому что в этой цепи есть и четвертый уровень - сельские округа, местное самоуправление. Мы должны принять нормальный закон о местном самоуправлении, чтобы в его рамках применять так называемый бюджет народного участия. На первых порах хотя бы как пилотный проект.
- Недавно появился документ, в котором прописаны минимальные региональные стандарты развития. Каково его содержание?
- Принят документ, в котором для каждой категории населенных пунктов (город, райцентр, село, которое является центром сельского округа, село, которое таковым не является) разработаны определенные минимальные стандарты: что там должно находиться, какой перечень услуг должен предоставляться, какая инфраструктура должна наличествовать. У нас сейчас одни населенные пункты соответствуют этим стандартам, другие - нет. И так же в разрезе регионов.
Теперь задача такая: министр экономики мониторит, где несоответствие. Допустим, регион обеспечивает себя на 50%. Остальные 50% ему выделяет республика. Только она дает недостающие средства целиком определенной суммой, не разбивая ее на проекты, как раньше. То есть даже в «донатах» предоставляется выбор, на что их потратить. Раньше было так: депутаты садятся и все проекты расписывают, а областной акимат готовит проектную документацию: вот здесь у нас водовод, здесь - физкультурно-оздоровительный комплекс, а это фельдшерский пункт. И нам столько-то потребно. Сейчас говорят: вот вам сумма, а проекты вы уже определяете сами. И областной маслихат делит их по приоритетности, по плану развития области. Так что отныне такой план становится основным, очень важным документом областного акима и областного маслихата.
Задача - привести все населенные пункты региона к соответствию с минимальными стандартами. Этим повышается ответственность областных и районных маслихатов. От их принципиальности и активности зависит, будет ли новый принцип бюджетного планирования работать на развитие регионов и рост благосостояния простых людей.
Добавлю, что усилиями депутатского корпуса субвенции регионам на 2026 год увеличены на 16,5 млрд тенге.
Среди бегущих первых нет и отстающих?
- Так ответьте же, что станет с регионами, которые сами по себе мало чего дают?
- Для таковых мы и утверждаем трансферты общего характера на ближайшие годы, то есть нецелевые субсидии. Повторю, они не для конкретного дела, а вообще на развитие, которое детализируется только на областном уровне.
В Казахстане есть регионы, которые себя полностью обеспечивают, и есть дотируемые. К примеру, в 2028 году Павлодарская область выйдет на полное самостоятельное обеспечение. Но тут же Улытау и Семей, которые самодостаточны примерно на 60 и 50%. Такие получат больше средств, но с условием: они обязаны развивать у себя малый и средний бизнес. А ведь налоги от него, как упомянуто, остаются в этом же регионе и постепенно закрывают бюджетную дырку.
И еще существует система поощрений: если регион переходит в разряд доноров или хотя бы выходит на финансовое самообеспечение, то для таких среди трансфертов общего характера припасен большой жирный пирожок, который в новом кодексе называется «бюджет развития».
- Так ведь, помимо местечкового развития, есть и большие, магистральные, общереспубликанские проекты. Означает ли, что теперь мы станем обходить их вниманием?
- А вот общегосударственные проекты, они и остаются в республиканском бюджете. Это так называемая критическая инфраструктура. То есть магистральные линии электропередачи, газопроводы, дороги республиканского значения, объекты обороны и т. д. Никуда они не деваются.
Просто мы немного подросли?
- Помните, в одной популярной песне были слова: «Просто все мы стали старше, просто мы немного подросли». Дают ли нам понять новый кодекс и закон о трансфертах, что отныне наши маслихаты действительно «доросли» до того, чтобы распоряжаться местными налоговыми сборами?
- Именно так. В рамках централизации мы долго придерживались мнения, что, если финансы передать на местный уровень, тут как тут окажутся и коррупция, и злоупотребления, и что акимы на местах всякое вытворяют, да что уследить за движением денег будет трудно… Но сейчас появились современные инструменты цифровизации, сейчас Минфин замечает, допустим, нецелевое использование средств даже на уровне какого-нибудь конкретного районного отдела образования. Правда, отслеживает не все, но гораздо большее, нежели 10 лет назад и тем более 20 лет назад. В новом кодексе все областные бюджеты будут работать на единой государственной платформе.
Плюс, если получится нормально внедрить цифровой тенге, это же будет практически полноценная криптовалюта на блокчейн-технологиях. Да еще гарантированная государством и привязанная к национальной денежной единице. То есть не безналичный тенге, а именно цифровой, где каждый тенге маркирован уникальным номером, особой отметкой. И задача стоит - полностью перевести государственные закупки на этот цифровой тенге, где все движения видны контролирующим органам как на ладони.
Публично и лично
- Коль уж мы созрели для финансовых реформ, не стоят ли на повестке дня реформы парламентские? К чему мы здесь идем?

Президент заявлял, что, если убрать сенат, придется переписывать конституцию / Фото Игоря НИДЕРЕРА
- О том, что сенат нашего Парламента - лишний, по-моему, только ленивый не говорил. Начиная с 1992 года верхняя палата, на мой взгляд, играла определенную роль. Это был своего рода фильтр для более качественной подготовки законов. С другой стороны, если мы убираем сенат, придется перераспределять полномочия между президентом, правительством и Парламентом. Президент тоже заявлял, что практически всю Конституцию придется переписывать, потому что надо по-иному закреплять эти самые полномочия.
Есть также еще нюанс, связанный с выборами по партийным спискам. Я же сам одномандатник, поэтому, мне кажется, в Казахстане наблюдается некоторая деперсонификация политики. У выборов по партийным спискам в Казахстане есть негативный момент, когда люди голосуют за одних людей в списке партии, а в Парламент проходят другие. Грубо говоря, во время выборов есть у партии определенная вывеска - некоторые люди, которые фигурируют на плакатах и за них голосуют избиратели. Но люди с красивых плакатов могут не попасть в окончательный список депутатов - в него включат партийных функционеров, которые и говорить не говорили, и обещать не обещали… Важно, чтобы мы не шли по пути обезличивания.
- Еркин Аманжолович, а быть может, в таком случае следует внести изменения в Закон «О выборах»?
- Не знаю, почему не всегда об этом публично говорится, но я за открытую политическую борьбу реальных людей, за праймериз. Потому что завтра они будут представлять народ Казахстана от округов и от политических партий, и важно, чтобы они тоже были известными, публичными. Я также планирую внести предложение, согласно которому лучше оставить институт независимых кандидатов, чтобы таковой представлял не партию, а себя лично. Там нужны определенные требования, чтобы он был человеком известным. Соответственно, он, как и политическая партия, должен набирать сторонников, подписи для регистрации и так далее.
Мне кажется, избирательное право не должно быть жестко привязано к политической партии. Это как предложение - ведь такое имеется во многих странах. Надо подумать, может быть, такой институт ввести и в Казахстане?
- Большое спасибо за беседу и обстоятельный анализ.
Последние новости