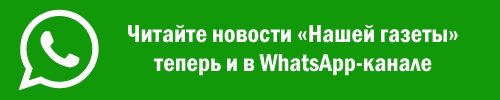Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
Юрий БОНДАРЕНКО
Возможно, эти заметки было бы точнее назвать «Об ужимках антиполемики». Попробуем вместе вспомнить хотя бы выборочно то, с чем практически постоянно сталкиваемся и в жизни, и мире СМИ - особенно во Вселенной интернета. Это значимо для нас всех. Ведь речь идет о том, что будоражит наши эмоции и прямо или косвенно определяет наполнение и направление наших мыслей.
О чем шумим-то?
Итак, начнем с «ужимок» или фокусов. С чего сплошь и рядом начинается полемика? С не всегда заметного отхода от вопроса «О чем шумим?», то есть было ли вообще это или не было.

Юрий Бондаренко: «Прежде чем полемизировать, надо понять, что же вы оспариваете»
Вот, скажем, слышу, что некий источник сообщил: сын такой-то актрисы зарезал ножом ректора, да еще и в кабинете. Все может быть в мире, где даже в президентов стреляют, и убить могут хоть политического, хоть любого иного противника. Но… не спешите мудрствовать по поводу именно этого злосчастного ректора. Почему? СМИ (а Интернет сегодня - тоже разновидность СМИ) просто поиграли в ужастик.
Да что там актриса, если точно так же поиграть можно и с мировой, и с общественной историей. Например, бросив в заболачиваемое море информации фразу типа: «Чингисхан был единственным, кто нагнул Россию». Занятно, что, когда упоминаешь это, многие начинают зачастую логично и эмоционально рассуждать о тюрках, славянах, идеологических провокациях. Но… пропускают мимо ушей главное. Сказать подобное, это же почти то же, что писать: «Пушкин и Абай были корреспондентами «Правды» под Полтавой, когда там «погорел» Карл, после чего Пушкин написал свою знаменитую поэму».
Чингисхан был великим полководцем, но он не мог «нагнуть Россию». Во-первых, потому, что в его время России не было, а в-вторых, потому, что сам он именно в этих местах тоже не был и потому не мог победить Россию так же, как Юлий Цезарь не мог громить Хеопса.
К сожалению, подобного рода «перлы» вполне реальны в мире массового сознания, выпестованного тестовым мышлением, которое приучает к запоминанию ворохов информационных обрезков без учета логических связей во времени и пространстве.
Переключение внимания
Но и когда с возможным и невозможным, достоверным и менее достоверным, а то и просто высосанным из пальца мы хоть как-то попытаемся разобраться, останется немало места для иных фокусов якобы полемики.
Самые ходовые и эффектные - это переключение внимания. Тут в арсенале полемистов масса вариантов.
И особенно ходовых на разнообразных телешоу - это микс из спецов, крикунов и бросающихся в глаза особ прекрасного пола. Представьте сами, что на таком шоу окажутся рядом одетые в скромную современную одежду Сократ и Конфуций и девицы в очень «министых» мини или громкоголосые актеры. Да о чем бы ни говорили - политике, морали, воспитании детей - в центре внимания будут последние, а не спецы и философы. И для меня это не отвлеченный вопрос. Я прекрасно понимаю, что рядом с сеансом стриптиза или азартом рулетки мне со всем своим философствованием просто делать нечего. Впрочем, эта тема давно была подмечена в «Карнавальной ночи», где лектор в разгар всеобщего веселья норовил рассуждать о жизни на Марсе.
Другой прием - «перевод стрелок» на личность оппонента… Вы ему (или ей): «У вас шнурок развязался, упасть можете», а в ответ: «У тебя шея толстовата». Такие приемы шутливо описывал еще Гегель, сравнивая иных полемистов с «базарными торговками». Кстати, при таком переключении крики и ярлыки частенько заменяют собственно аргументы. И, как ни грустно, такое можно встретить в кругу самых серьезных интернет-дебатов.
Скажем, обсуждают биографию Солженицына, вспоминают «Архипелаг ГУЛАГ». Я не поклонник Александра Исаевича. У меня вообще нет кумиров, которым хотелось бы курить фимиам. Если только речь не идет о художественных талантах и спортсменах, достойных восхищения. Более того, и у меня самого к Солженицыну немало вопросов. А разговор спецов просто блестящ… Но и тут подмечаешь ловушку, не привлекающую внимания с первого взгляда. Солженицын и иже с ним могут быть и такими, и разэтакими. И факты, приводимые автором «ГУЛАГа», могут далеко не всегда быть фактами. И цифры дутыми… Более того, я решительно против бесконечного повторения криков о «культе Сталина». Громогласно громить Сталина - это все равно что храбро топтаться на шкуре кем-то убитого льва. Не уместнее ли почаще думать о настоящем? Ведь переключение на прошлое - тоже ход.
Другое дело, что все сказанное не снимает проблемы репрессий, голода и прочего. Если даже где-то пострадали не 60 млн и даже не миллионы, а «только» сотни тысяч или даже тысячи - это тоже страдания. У происшедшего есть причины. И все это надо изучать спокойно и кропотливо. Но тут я могу только повторить мысль Жаксалыка Сабитова о том, что история, изучаемая профессионалами, и история, вбрасываемая в сферу массового сознания, да еще с учетом политизации прошлого, - это совершенно разные истории.
Конечно, хотелось бы, чтобы профессиональная история энергичнее врастала и в массовое сознание. Но для этого надо еще очень и очень много работать. Увы, учитывая и то, что самые блестящие профессионалы, выходя к огням софитов, не всегда остаются только профессионалами.
Уместно вспомнить и такую форму переключения, как расширение предмета разговора и тех или иных суждений о нем. Вот у меня на столе полезная во многих отношениях книга Аннемари Бон «Фейк! Все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и теориях заговора». Давайте вчитаемся в раздел «Проверь себя: да или нет? Прочти эти утверждения. Что из них правда, а что нет?». В задании много примеров типа того, что «НАСА проводит на Марсе тайные опыты над животными», или утверждения о том, что Барак Обама - инопланетянин. В итоге звучит восклицание, что все утверждения чистой воды выдумка. Но все не так линейно. Забавный раздел напоминает детскую игру, когда называется что-то съедобное либо несъедобное, и надо поймать брошенный мяч либо не хватать его. Фокус здесь в том, что при повторении однопорядковых наименований игрок может по инерции схватить мяч после слова «башмак».
Здесь же такая, по сути, игра дополняется еще и расширением предмета «веры». Скажем: «Во всем виноват популизм», «Во всем виноват капитализм». Причем сразу за этим следует вброс: «Австралии не существует». Все это перемешивается с суждениями о «химтрейлерах», о том, что вирус СПИДа «был разработан в лабораториях, чтобы избавить мир от чернокожих и гомосексуалов», о гибели башен-близнецов и причастности ЦРУ к этой трагедии.
Перед нами «двухвариантное расширение». Один из вариантов сопряжен с выходом за пределы нашей личной компетенции, потому что и о башнях-близнецах, и о вирусах, и даже о «химтрейлерах» мы не можем просто сказать «верю» или «не верю» из-за недостатка информации, которую мы могли бы счесть достоверной. Второй вариант тоже бросается в глаза. Упоминая капитализм, от нас требуют однозначных ответов там, где нужен серьезный анализ. Ведь тот же капитализм, как определенная форма организации социальной жизни, связан со многими бедствиями. Хотя при этом было бы смехотворно шуметь о виновности капитализма в том, что такой-то Иван Иваныч напился и сломал себе ногу.
Можно ли спорить честно?
И наконец, о том, что мне видится крайне важным: это два вектора субъективно честной полемики.
Первый вектор - это то, что воспитывают шахматы, шашки… и даже в немалой мере самые разные виды единоборств. В тех же шахматах каждый ваш ход - это ответ на ход противника. Вы «полемизируете» тем, что, стремясь постичь замыслы оппонента, противопоставляете им свои. Иначе говоря, прежде чем полемизировать, надо понять, что же вы оспариваете. Не случайно в прошлом были известны культуры, где, прежде чем публично возражать кому-то, требовалось сжато повторить аргументы противника. Если тот признавал, что понят правильно, можно было приступать к опровержению.
Увы, опыт, в том числе и мой собственный, многократно демонстрирует иное - то, что я бы назвал вторым вектором. Чьи-то суждения, доводы используются лишь в качестве взлетной полосы для демонстрации собственного мировидения, а то и просто Я. Это видимость реальной полемики. Потому что зачастую так называемые оппоненты просто не удосужились ни вслушаться, ни вникнуть в написанное и сказанное кем-то. И получается, что полемический текст сам по себе может быть и эффектным, и даже в чем-то блестящим, но при этом иметь очень малое отношение к тому, с кем вроде бы полемизируют.
Кстати, я сам лишь не так давно задумался над тем, что с древнейших времен публицисты, включая «классиков марксизма-ленинизма», очень часто азартно опровергали оппонентов, не пытаясь проникнуть вглубь опровергаемого, а прежде всего, чтобы утвердить собственные взгляды. Так, исходя из ленинского «Материализма и эмпириокритицизма», почти невозможно понять, что же реально утверждали те, кого он громил. А от одного мудрого педагога я еще в молодости услышал, что и Энгельс в «Анти-Дюринге» был не очень-то справедлив к самому Дюрингу. Иначе говоря, если вы хотите кого-то понять всерьез, читайте не критиков, а его самого.
Правда, маститые противники и классики, хоть и бывали несправедливы к оппонентам, «имели, что сказать». И произносили не просто где-то услышанное, вычитанное, а выстраданное лично, обдуманное ими самими.
Сегодня же проблема реальной полемики усугубляется тем, что в мире информационного грохота, мелькания картинок, где милые кошечки сменяют нищих старух, мы почти инстинктивно сторонимся проникновения хоть в какую-то глубину - как бы не захлебнуться! Мы все более привыкаем смотреть и не видеть, слушать и не слышать. И в то же время - я вижу это постоянно в информационном пространстве - сколь многим хочется прокричать: «Люди, я есть! Вот мои фотки! Вот мой огород! Вот я на турецком или каком-то ином пляже!»
И когда у кого-то все-таки хватает досуга и терпения прикасаться к чьей-то полемике, то желательно хотя бы пытаться различить: где речь идет о поисках сути, где - выполнение заказа, а где человеку не до того, чтобы вас слушать. Он либо стремится поведать свое, либо просто испытывает неодолимую потребность прокричать: «Люди! Я есть!»
Вот это-то стремление различать реальные цели полемики, включая и нас самих, и оппонентов, мне представляется особенно значимым.
Фото из архива «НГ»
Последние новости